« А. И. КУИНДЖИ (1841-1910) | Главная | Е. М. ТАТЕВОСЯН (1804—1936) »
А. БЕКЛИН (1827-1901)
Опубликовал Художник | 14 ноября 2012
Но в 1882 году состоялась последняя прижизненная выставка Куинджи. С тех пор, вплоть до 1910 года, года смерти художника, ни одна картина не покинула стен его мастерской. Одна из причин этого решения Куинджи кроется в том, что сам мастер раньше своих критиков почувствовал ограниченность избранного метода, основанного на редких световых эффектах. Бесперспективность его обусловливалась присущей ему двойственностью: с одной стороны, стремление к иллюзорному воспроизведению натуры требовало объективной точности, с другой — усиление декоративного момента вело к большей условности. Художник понимал, что не в состоянии разрешить этот тягостный конфликт, не поступившись принципами реализма.
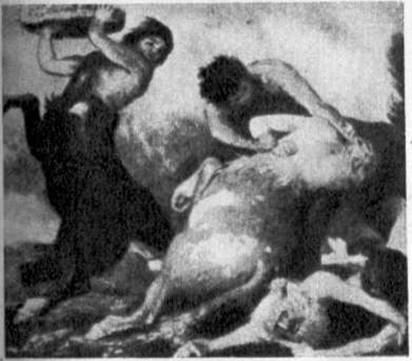
С 1894 года он вел плодотворную педагогическую деятельность в Академии художеств и был уволен в 1897 году за поддержку студенческих волнений. Среди учеников Куинджи — замечательные пейзажисты А. А. Рылов, Н. К. Рерих, К. Ф. Богаевский, В. Е. Пурвит н другие, художники, очень разные по своей направленности, но все-таки (как лишний раз показала устроенная в 1973 году в Москве выставка «Куинджи и его школа») схожие между собой внушенными их учителем эпическим восприятием мира природы, яркой декоративностью живописи, оптимизмом образного строя. Своеобразным памятником творчеству’ Куинджи стало учрежденное на его средства в 1909 году Общество художников, ставившее своей целью поощрение молодых талантов и принявшее впоследствии его имя.
Арнольд Беклин родился в Базеле в семье состоятельного купца. Родители не жалели денег на воспитание сына, и когда он выразил желание поступить в Академию художеств в Дюссельдорфе, не препятствовали его стремлению: ведь Дюссельдорфская Академия считалась одним из лучших художественных учебных заведений того времени. Однако жанровая живопись с критическим и морализирующим уклоном, культивировавшаяся в Дюссельдорфе, не привлекла молодого швейцарца. В 1847 году он покидает Дюссельдорф и начинает жизнь, полную скитаний. Он путешествует по Швейцарии, учится некоторое время у модного пейзажиста Калама. 1848 год застает его в Париже — он оказывается свидетелем революции, которую даже не пытается понять, настолько тягостные впечатления оставили у него сцены вооруженных столкновений. Может быть, именно тогда возникает у него отвращение ко всякой современности, тяга к искусству, стоящему вне времени — идилличному и безмятежному.
В 1850 году он поселяется в Риме, женится на юной итальянке и ведет тихий и незаметный образ жизни, окруженный небольшим кружком близких друзей. Он пишет идеальные пейзажи с мифологическими фигурами, мотивами для которых служат впечатления от Римской Кампаньи и гор Лигурийского побережья. Но эта идиллия продолжается недолго. В поисках славы Беклин отправляется в Мюнхен — тогдашнюю художественную столицу Германии. Однако признания он здесь не получает, и в 1862 году он снова в Риме. На этот раз его захватывает не только итальянская природа, но и итальянское искусство — Рафаэль, Тициан и, особенно, помпейские росписи.
Он хочет достичь таких же вершин мастерства — пробует старинные техники: энкаустику, темперу, лаковую живопись, пытается работать фреской. И самый характер его картин меняется: человеческая фигура начинает занимать все большее место, меняется ее роль в построении сюжета картины. Беклина все больше привлекает тема созвучия души человека и стихийных сил природы («Вилла у моря», 1864). И когда в 1871 году художник снова возвращается в Мюнхен, его творчество получает признание.
В этот период окончательно складывается тот тип картины, который принес Беклину популярность — несколько мифологических фигур среди пейзажа, изображенных в насыщенной, звучной, открытой красочной гамме. Бек- лин угадал вкус общества к искусству, дающему радость и уводящему от злобы дня — и в то же время достаточно содержательному, чтобы не быть пустой побрякушкой. Тяга к «большому стилю» была вообще характерна для 70—80-х годов прошлого века. У Беклина она нашла своеобразное, хотя и несколько претенциозное воплощение.
Один современный исследователь заметил, что поиски «большого стиля» в конце XIX века были пронизаны идеями натурализма, насыщены его мотивами. Обращение к мифу как к главному сюжетному стержню в живописи монументальных форм сочеталось с почти жанровой его трактовкой, идеализация — с подчеркнутой фнзиологичностью, стоящей в связи с естественнонаучными воззрениями эпохи. Это тонкое замечание дает ключ к пониманию творчества Беклина с его попытками оживить мифы и «влить свежую кровь» в образы античности. Кентавры, тритоны, нимфы изображены как большие красивые звери, то играющие в волнах («Игра волны»), то наслаждающиеся чувством физического покоя («Тритон и Нереида»), то вступающие в яростную схватку («Битва кентавров»). Чувство физического покоя исходит и от пейзажей с их замшелыми камнями, мощными стволами деревьев с бархатистой листвой. Это физическое, почти физиологическое ощущение поддержано колоритом картин, где изумрудно-зеленое сочетается с красно-коричневым, а нежно-жел- тре оттенено металлическими бликами голубоватых тонов.
И в то же время искусство Беклина, такое непосредственное по замыслу, поражает своей выделанностью и холодностью. Миф, низведенный до анекдота, до сентиментальной сценки, нуждается в искусственных подпорках, чтобы сохранить свою монументальность. Отсюда идеализация, отсюда тяжеловесный пафос и ложная многозначительность, которые и вызывали восторг мюнхенской буржуазной публики. Впрочем, выставка Беклина в Берлине вызвала злобные нападки. Борьба, разгоревшаяся вокруг этой выставки, сделала имя художника еще более популярным. В 1874 году он возвращается в Италию, на этот раз во Флоренцию. Вокруг мастера собрался круг восторженных учеников и поклонников. Его вилла во Фьезоле становится местом паломничества. Среди многочисленных картин этого периода особенно знаменит «Остров мертвых», в котором Беклин возвращается к мотивам своей ранней «Виллы у моря».
Таинственный остров, вздымающийся из глади моря, и скользящая к нему ладья овеяны романтическим и меланхолическим настроением. С середины 80-х годов Беклин становится одним из самых популярных немецких художников. Репродукции его картин считаются необходимой принадлежностью каждой немецкой семьи, претендующей на интеллигентность. Его влияние распространяется не только на учеников, но и на целое направление в искусстве Германии, получившее впоследствии название «стиля модерн». Цены на его картины растут баснословно. Он умирает в расцвете славы.
Но уже через пять лет после его смерти авторитетный критик Мейер-Грефе выступил с резко отрицательной оценкой творчества Беклина — он решительно отказывал ему в каких-либо художественных достоинствах. Однако это мнение, распространенное и сейчас, грешит антиисторизмом. Беклин был типичнейшей фигурой своего времени, и история искусства конца XIX века немыслима без него.
Комментирование закрыто.
